Петербург и люди
«Правдивая музыка всегда будет понятна душе» — интервью с пианистом Александром Кашпуриным
Редактор: Фравн Яна
Фото: Виктория Ушакова
Фото: Виктория Ушакова
Время для чтения: 8 минут
Александр Кашпурин — 28-летний российский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории, музыкальный руководитель негосударственного театра «Реплика», дирижер и художественный руководитель камерного оркестра «Infinitum», а также создатель жанра «метаопус». В этом интервью медиа БАЛАГАН поговорили с пианистом о карьере и творчестве музыканта.
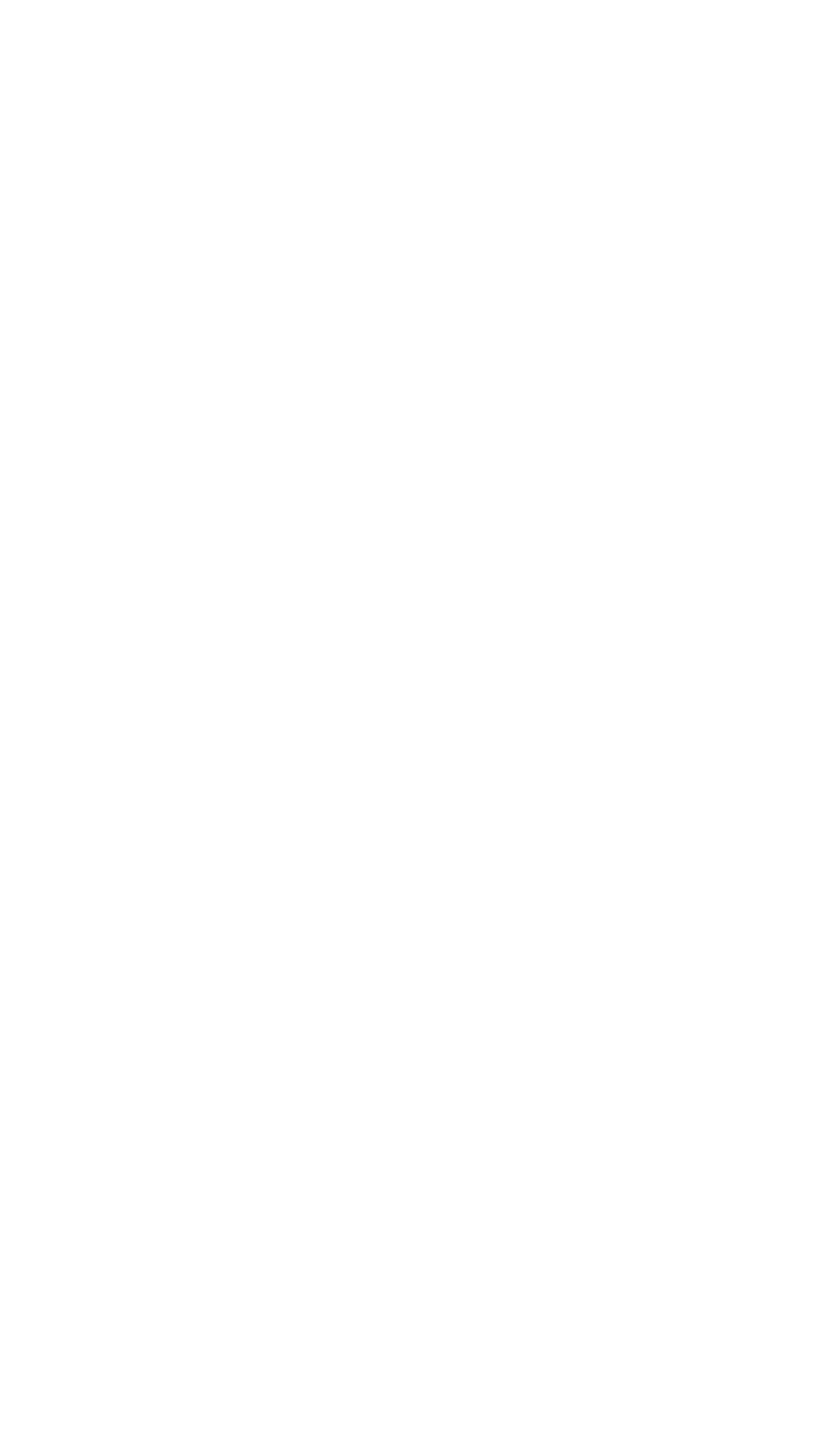
Александр Кашпурин/ Фото: медиа Балаган, Виктория Ушакова
— Как вы начали заниматься музыкой?
— Вероятно, мой ответ будет несколько банальным, я начал заниматься музыкой, просто потому что захотел. Мои родители не были музыкантами, но бабушки и дедушки пели, когда собирались в кругу семьи, из-за этого я тоже полюбил пение и начал ходить в хор, а на фортепиано заиграл в возрасте восьми лет. Я никогда не выбирал между музыкой и чем-то другим, для меня это была комфортная среда, вот бывает так, что в каком-то деле ты осознаёшь, что чувствуешь себя удобно, и в музыке я понимаю, как нужно действовать, чтобы выразить свои желания. В детстве это было просто удовольствие: попеть, потанцевать, почитать с листа, посочинять музыку, но, как взрослый человек, я сейчас анализирую и понимаю, что я не смог бы заниматься углубленно, например, математикой или другими предметами, музыка была для меня моментом отдохновения, также я чувствую, что она заставляет меня становиться лучше.
— Как проходили занятия по хору?
— Мне очень нравилось петь в студии «Искра», это хор мальчиков во Дворце творчества юных на Ленской. Я благодарен хору, так как у нас были занятия четыре раза в неделю по четыре часа, мы исполняли огромный репертуар в сто произведений, причем многие дети были совершенно не из музыкальных семей, но наш руководитель Елена Владимировна Воробьёва была особенной, она бесконечно любила музыку, хор и заниматься с детьми, поэтому все ученики у неё пели чисто и знали ноты.
— Фортепиано вы здесь же осваивали или в другой школе?
— Для того, чтобы выполнить программу «Искры», нужно было взять инструмент, и моя мама оказалась против того, чтобы я занимался им в музыкальной школе. Она боялась сложной системы с экзаменами, тем более моя старшая сестра, у которой прекрасные музыкальные данные, попала к грубому педагогу, которая постоянно ругалась, и, конечно, родители не хотели повторения со мной. Но мне кажется, это во многом повлияло на меня положительно, потому что, если бы они изначально хотели, чтобы я связал судьбу с музыкой, то может быть на этом контрасте я постепенно перестал заниматься ей.
— Не было выбора между фортепиано и другим инструментом?
— Нет, не было, ведь фортепиано — это хор, оркестр, театр, скрипки, флейты. Это инструмент, который объединяет в себе всё и может создать любые звуковые миры, а если ты играешь на скрипке, то у тебя есть только голос скрипки, который ты должен развивать в течение всей своей жизни. Его можно обогатить максимально, но он все равно останется голосом скрипки, фортепиано же более абстрактный инструмент, который не имеет своего тембра.
— Помните своего преподавателя по фортепиано?
— В детстве у меня был педагог, которого как раз посоветовала дирижёр Елена Владимировна, её звали Елена Александровна Колесникова. Так получилось, что она из-за своего интуитивного подхода, не очень системного, но любовного, позволяла много экспериментов — у нас не было никаких рамок в виде экзаменов и отчетности, мы просто играли в разных тональностях, подбирали пьесы, придумывали второй голос к мелодии, пытались подобрать авторов. Потом она рассказывала про интервалы, всё было в виде особенного волшебства, и я за это очень благодарен ей, но в дальнейшем так получилось, что мы не смогли больше вместе заниматься. Елена Александровна сама нашла нам преподавателя, к которому мы перешли — это Ирина Игоревна Лобикова, она сейчас преподает в лицее в Кикиных Палатах и в училище Мусоргского. У неё есть воля и творчество, она посвящала много часов нашим совместным занятиям, и я помню, как мы могли сидеть с шести вечера до десяти и заниматься, но это была не только сплошная игра, были её разговоры про литературу, мнение о каких-то произведениях, искусство и жизнь, это было всегда что-то очень личное и глубокое. Когда я к ней пришел, у меня не было жесткой фиксации, как должны стоять руки, обычно же дети бывают, занимаются с четырёх или пяти лет, и они уже автоматически играют, а я имел счастье всегда додумывать. У нас возникла такая глубокая связь и взаимопонимание, она не видела другой школы во мне, а в это время с 7−11 класс как раз было много музыкальных потрясений, то есть ты приходишь на концерт, кто-то играет, а тебя на куски разрывает, либо от восторга, либо от… Я даже не знаю, как это чувство описать, то есть это настоящая музыка.
В дальнейшем я учился в Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова у Татьяны Михайловны Загоровской. Наши уроки были, как уроки счастья — она заглядывала в самую глубь сердца, понимала, что у меня происходит и начинала это все спокойно так рассказывать. Она реагировала на то, как я играл, причем не только внешне, но и внутренне. Тебе кажется, что ты хорошо подготовился и эмоционально сыграл, а она говорит: «Это так дико звучит. Это не Шопен, это стадо диких быков». Её образы — точное попадание в тебя.
В дальнейшем я учился в Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова у Татьяны Михайловны Загоровской. Наши уроки были, как уроки счастья — она заглядывала в самую глубь сердца, понимала, что у меня происходит и начинала это все спокойно так рассказывать. Она реагировала на то, как я играл, причем не только внешне, но и внутренне. Тебе кажется, что ты хорошо подготовился и эмоционально сыграл, а она говорит: «Это так дико звучит. Это не Шопен, это стадо диких быков». Её образы — точное попадание в тебя.
— Чувство, которое производит на нас музыка, зависит от исполнения или изначальных нот?
— Вся музыка зависит от игры человека, потому что это в любом случае интерпретация. Когда ты смотришь на ноты — это всего лишь письмо, там много символов, указан размер такта и темп, а какой там характер музыки и тональность зависит от исполнителя. Когда композитор пишет ноты, то он пишет не звуки, а создаёт музыкальную идею, и наша же задача через эти ноты увидеть мысль и вложить в своё сердце, найти правду.
— А что вы имеете в виду именно под «правдой»?
— Правда — не придумывать интонации, а стараться их услышать, то есть они к тебе сами должны прийти. Когда мы слышим что-то правдивое со сцены, то такое ощущение, что это само по себе поёт, льётся, как будто бы просто кто-то разговаривает, или кто-то плачет, или кто-то радуется. Чем правдивее, тем более понятна музыка душе, а если там много придуманного, сделанного, то видно, что человек профессионал, но почему-то она не цепляет.
— От чего зависит правдивость? Её можно найти в себе?
— Её нужно искать в себе. Это наш музыкальный крест и путь — ты выбираешь всю свою жизнь посвящать рефлексии, искать в себе чистоту, добро, что-то вечное. Это важно, ведь музыка не терпит никаких компромиссов, мол, я понимаю, что это плохо, но я продолжаю это делать — если ты так будешь делать, то музыка не будет сильной в твоих руках никогда. Музыкант, который занимается собой и над музыкальным произведением — это полнейшее уединение, там невозможно никому рассказать полностью, что происходит с тобой. Там возникает встреча с самим собой, это бывает очень болезненно, тяжело, но это самое важное и интересное.
— Вы к этой мысли пришли уже во взрослом возрасте?
— Это связано со взрослением. В детстве много непосредственности, когда ты сам себе ничего не объясняешь, просто играешь, и не надо ребенку как раз об этом знать. Чем больше простого диалога с музыкой, образов, сказок, и историй — тем лучше.
Знаете, если человеку, который хочет стать монахом, начать рассказывать все те ужасы, которые монахи испытывают на своем пути, когда они уже принимают монашество, то никто бы и не захотел выбрать такую дорогу.
Знаете, если человеку, который хочет стать монахом, начать рассказывать все те ужасы, которые монахи испытывают на своем пути, когда они уже принимают монашество, то никто бы и не захотел выбрать такую дорогу.
— Что для вас музыка?
— Каждое произведение — это как маленькая жизнь. Если относиться к музыке, как к жизни, которая рождается, умирает, то ты начинаешь думать и о своей жизни, что ты сейчас тоже родился и умрёшь когда-то. Произведение может быть очень эффектным, но если после него остаётся пустота, то это не музыка.
Я считаю, что музыка это вообще не звуки — это смыслы, которые выражаются через звук. Музыка — мостик между нами настоящими и нами сегодняшними, мы постоянно общаемся через время с самими собой благодаря музыке. Это правда интересно! Но всё очень зависит от исполнителя. Быть исполнителем, который может это выразить — не просто, потому что тут нужно понимать, что ты готов отдать себя всего.
Я считаю, что музыка это вообще не звуки — это смыслы, которые выражаются через звук. Музыка — мостик между нами настоящими и нами сегодняшними, мы постоянно общаемся через время с самими собой благодаря музыке. Это правда интересно! Но всё очень зависит от исполнителя. Быть исполнителем, который может это выразить — не просто, потому что тут нужно понимать, что ты готов отдать себя всего.
— У вас не возникает кризисов?
— Это всё время ковчег внутренней борьбы, он то в одну сторону, то в другую. Я не могу назвать это кризисом, скорее это состояние, когда ты понимаешь, что в тебе есть много того, что ты хотел бы в себе изменить. К примеру, не понимаешь, почему ты выбираешь какое-то сиюминутное удовольствие взамен чего-то настоящего.
И главное, ты же хочешь быть счастливым, зачем ты себя обманываешь? И вот начинаешь с этим работать, так и в музыке любое музыкальное произведение — стремление к счастью. Ты должен себя действительно отдать этому делу, принять в себя боль мира, только исключительные люди способны это сделать
И главное, ты же хочешь быть счастливым, зачем ты себя обманываешь? И вот начинаешь с этим работать, так и в музыке любое музыкальное произведение — стремление к счастью. Ты должен себя действительно отдать этому делу, принять в себя боль мира, только исключительные люди способны это сделать
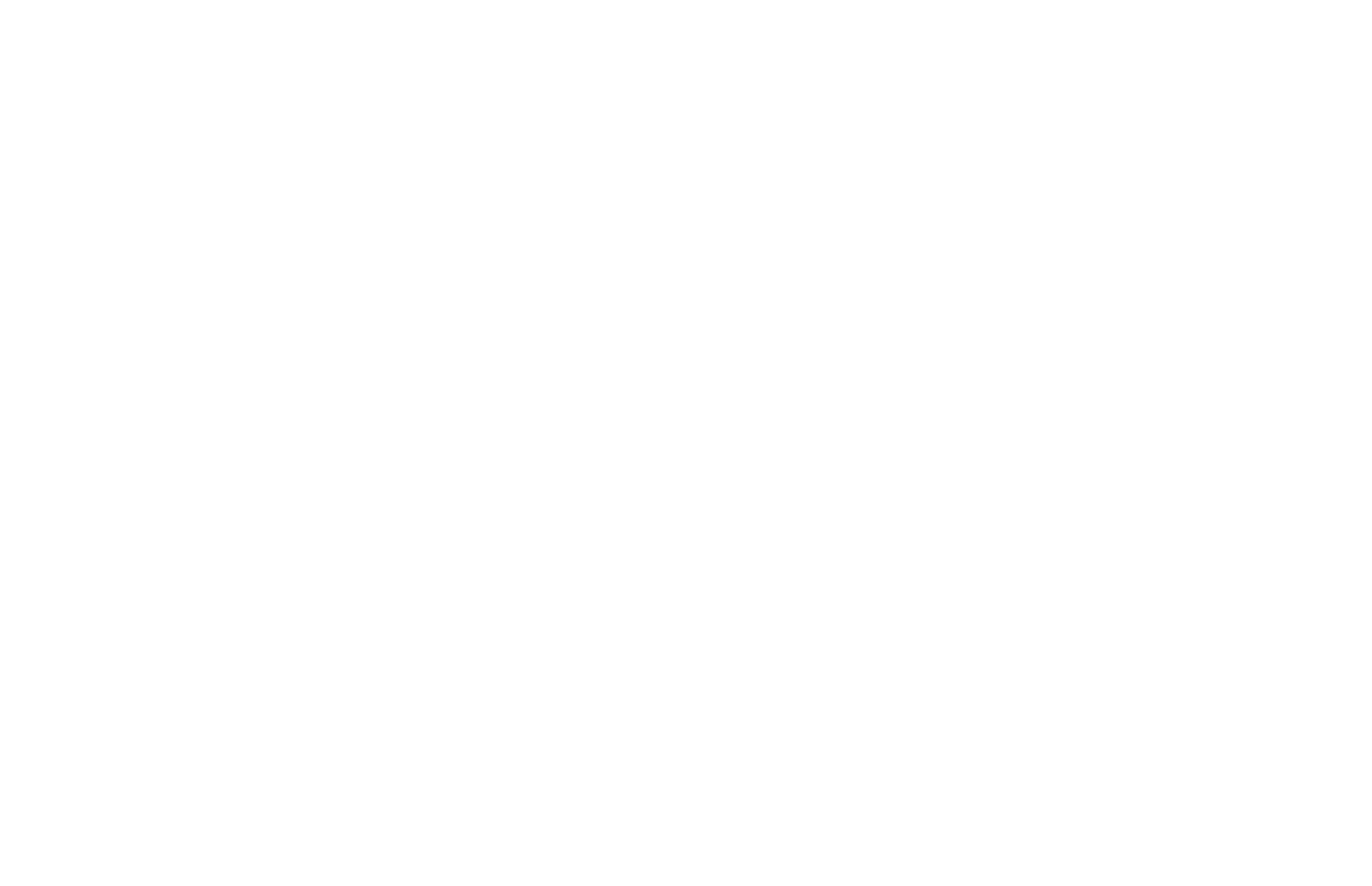
Александр Кашпурин в Особняке Мясникова/ Фото: медиа Балаган, Виктория Ушакова
— Можете поделиться вашими любимыми исполнителями?
— Григорий Соколов, которого я услышал однажды в большом зале Филармонии. Я до сих пор не могу забыть то, что он играл — это было что-то грандиозное, кажется, что ты присутствуешь при великом действе. Также Алексей Султанов, который всё сердце своё отдал — он, к сожалению, умер молодым, но это был удивительный человек, который находил кураж во всём, что он делал. Он всегда выходил за рамки традиционных исполнителей и находил какие-то уникальные живые интонации. Ещё хочется рассказать о Марисе Янсонс, дирижере, который играет, как будто несёт свет через оркестр, он умеет передавать смыслы, которые для оркестра необычны.
— Вы говорите про исполнителей, но важна ли ещё выборка самих произведений, которые человек играет?
— Когда ты уже не студент, ты начинаешь думать, а много ли ты знаешь вообще композиторов, ведь исполняют лишь незначительную часть —и начинаешь искать ноты, ты их смотришь и проигрываешь внутренним слухом. Есть произведения, которые ты понимаешь, что сильно хотел бы сыграть, а есть произведения, которые, наоборот, очень известны, но я понимаю, что сейчас не должен это играть, погружаться, потому что в нотах есть смыслы, которые я не смогу передать, не чувствую с ними связи и необходимости, чтобы она возникла.
— У вас есть любимый композитор?
— Это Бах! Удивительно, насколько он ещё не раскрыт, в нём много глубины и понятной любви для простых людей. Он писал как будто он не музыкант, ведь когда Бах жил, не было понятия "гений", он работал как ремесленник, перед каждой службой писал по новому произведению, и не ради того, чтобы это было внешне красиво, а потому что посвящал свой труд Богу, молился этим. У него были дети, которых он тоже воспитывал в любви к музыке, и многие из них стали потрясающими музыкантами, а потом он всегда выражал какие-то скрытые смыслы, к примеру, очень любил прятать в своих произведениях числа, буквы и слова. «Бах» — фамилия, которая по-немецки означает «ручей», но при этом, если ты каждую букву отдельно сыграешь на пианино, то получится крест.
— Зачем такие скрытые смыслы?
— Он жил этим, для него это была игра. Тем более музыка была привязана к числу долгое время, определенные соотношения и сочетания должны складываться в определенные числа — здесь сплошные законы.
Возвращаясь к Баху — он очень разный, советую послушать интерпретации через сайт classic.online и найти своего Баха.
Возвращаясь к Баху — он очень разный, советую послушать интерпретации через сайт classic.online и найти своего Баха.
— Вы исполняете музыку в жанре «метаопус». Можете рассказать, что это?
— Мне кажется, что мы уже не можем просто играть концерты, где довольствуемся одним периодом прошлого, нам нужна концепция и объединение. Нужно ощущение, что музыка живая, поэтому возникла идея соединить совершенно разные эпохи и жанры, то есть у каждого композитора есть опус, а есть метаопус — это то, что их сочетает, некая сверхидея, и она обычно очень простая.
— Можно сказать, что вы изобрели жанр?
— Это громко сказано, но действительно так никто никогда не делал, я даже удивлялся — почему? Я не называл это метаопусом какое-то время, просто делал вот такие программы, и люди вообще не понимали концепцию, организаторы концертов не хотели, чтобы я играл такое. Первые шаги были тяжелыми, но метаопус внёс много ясности, это действительно новый жанр.
— А как вы находите эту связь между произведениями?
— Сначала я думаю, какую мысль я хочу выразить, а после начинаю, как на верёвочку нанизывать бусинки. Эти произведения должны создавать особенную связь вместе, есть произведения более добрые, есть более злые, есть какие-то оттеняющие, потом происходит борьба, и побеждает зло. Возможно, это примитив, но работа с банальностью важна в наше время.
К примеру, начинается всё с Чайковского «Жаворонка» — символ вечной жизни, а после совершенно страшнейшее произведение Скрябина, где появляются устрашающие тени, и возникает внутренний конфликт, который есть в каждом человеке. Бывает так, что мы чувствуем спокойствие, чистоту, а потом мы прям ломаем всё от наших страстей. После начинается рефлексия, постепенно всё это раскручивается в определённую историю, мы начинаем сопереживать этой линии, как будто бы она про нас сейчас. Получается образ создан для того, чтобы полностью убрать все рамки музыки, исторический контекст, стили, и создать единый норматив, который прямо в тебя входит, а ты с ним вместе взаимодействуешь и уже не можешь жить как раньше.
К примеру, начинается всё с Чайковского «Жаворонка» — символ вечной жизни, а после совершенно страшнейшее произведение Скрябина, где появляются устрашающие тени, и возникает внутренний конфликт, который есть в каждом человеке. Бывает так, что мы чувствуем спокойствие, чистоту, а потом мы прям ломаем всё от наших страстей. После начинается рефлексия, постепенно всё это раскручивается в определённую историю, мы начинаем сопереживать этой линии, как будто бы она про нас сейчас. Получается образ создан для того, чтобы полностью убрать все рамки музыки, исторический контекст, стили, и создать единый норматив, который прямо в тебя входит, а ты с ним вместе взаимодействуешь и уже не можешь жить как раньше.
— Напоследок хочется спросить, есть ли в Петербурге любимое место, которое вас вдохновляет?
— Мне очень нравится район, где Караванная площадь и Итальянская улица, там очень тихо и хорошо, хотя вроде бы самый центр. Также на Литейном есть такой двор, где на доме нарисована огромная голова «Руслана и голова». (пометка от медиа: граффити находится по адресу Литейный проспект, 50). Потом есть, например, дворик «Колизей» (от медиа: граффити находится по адресу Итальянская, 29), у меня вызывает восхищение, что в Петербурге много мест, о которых ты не знал, и вдруг перед тобой возникает такая красота.
И очень нравится, конечно, Театральная площадь, моя судьба быть там, где Консерватория и Мариинский театр, ощущение, что тут мой второй дом.
И очень нравится, конечно, Театральная площадь, моя судьба быть там, где Консерватория и Мариинский театр, ощущение, что тут мой второй дом.
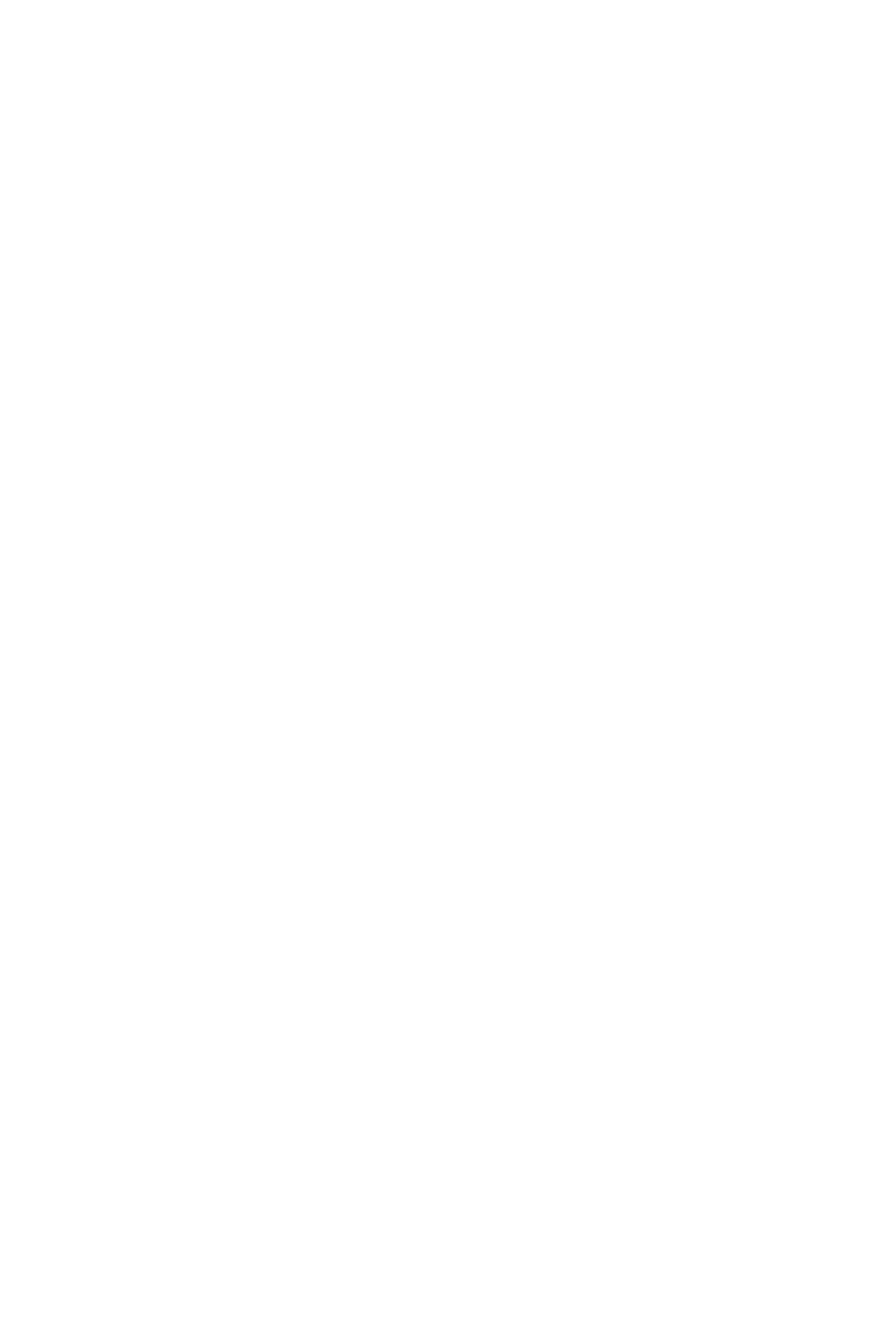
Александр Кашпурин в Особняке Мясникова/ Фото: медиа Балаган, Виктория Ушакова
Благодарим пиар-агенство PrLook за организацию интервью c Александром Кашпуриным.