Интервью с основательницами галереи MYTH Ольгой Профатило и Юлией Вяткиной
Интервьюер: Яна Фравн
Редактор: Софья Фролова
Редактор: Софья Фролова
«Наше дело — это поезд, который мчится, и из него уже никак не выйти»
Основательницы MYTH Ольга Профатило и Юлия Вяткина создали в Петербурге пространство для поддержки художников через долгосрочное сотрудничество и экспериментальные выставки. Их ключевая задача — формирование сообщества ценителей современного искусства. Для этого галерея активно участвует в международных ярмарках и проектах, расширяя диалог с глобальной аудиторией. Мы поговорили с Ольгой и Юлией об основании MYTH, поиске новых имён, а также тенденциях, которые формируют искусство сейчас.
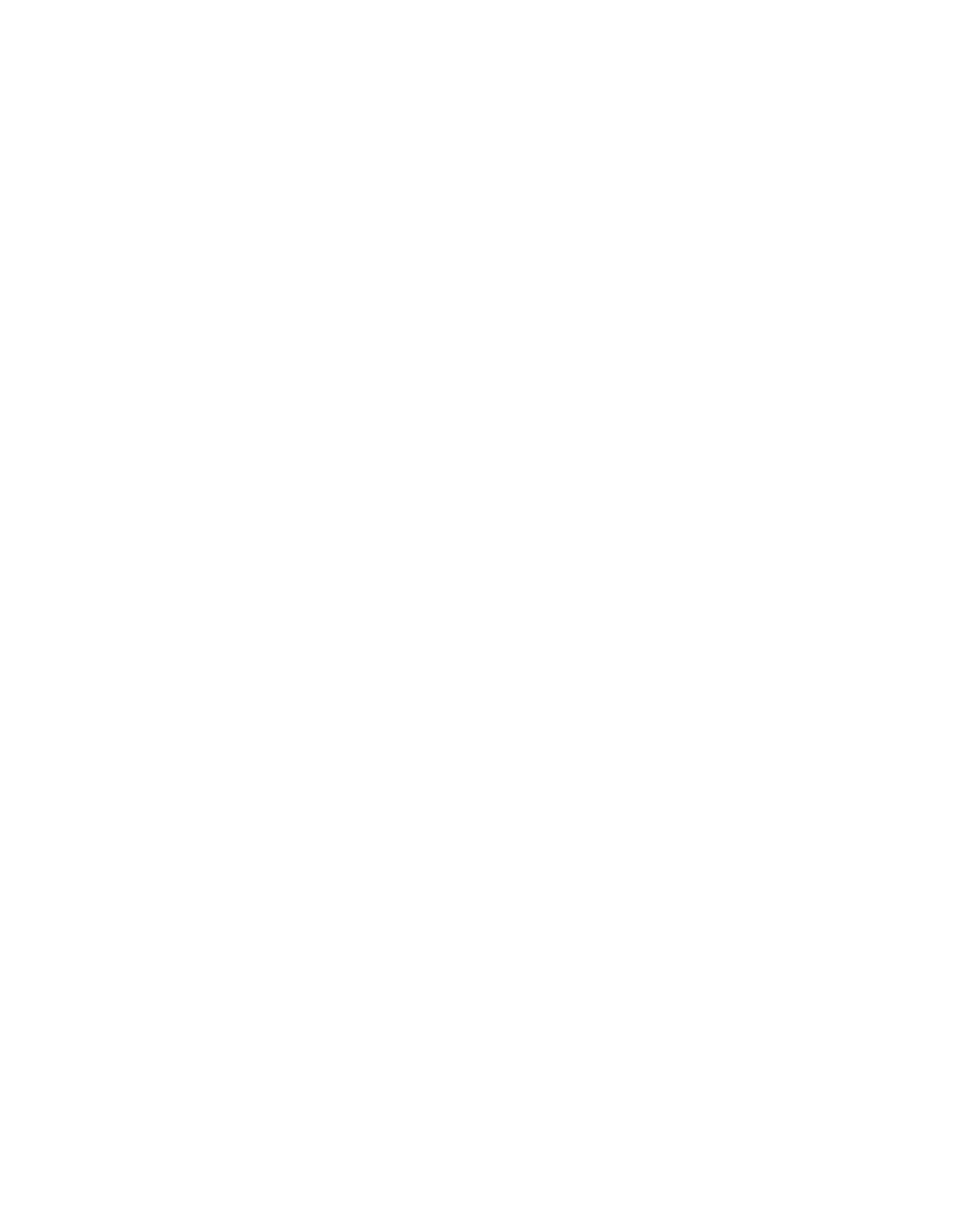
Юлия Вяткина и Ольга Профатило, соосновательницы MYTH Gallery. Фото предоставлено галереей
— Как вы начали работать с современным искусством?
— Юлия: Я начала работать с современным искусством, когда у нас появилась галерея.
Мы с Олей получили классическое искусствоведческое образование и теорию знали хорошо ещё с университета. Позже я какое-то время работала в другой сфере. Не скажу, что современное искусство было моим любимым предметом в институте, больше я любила древнехристианское и эпохи Возрождения.
— Ольга: Меня во время учебы в университете больше интересовало не конкретно современное искусство, а рынок — диплом я писала про мир искусства на крупнейших аукционах, анализировала динамику развития ценообразования. Конкретно к современному искусству пришла в галерее Marina Gisich, где я проработала девять лет. Там я открыла для себя интересный динамичный мир, после чего стало понятно, что хочется продолжать двигаться в этом направлении. Во время учебы мы посещали и галереи, хотя современное искусство и не изучалось в таком объеме, как сейчас. Но база знаний у нас все равно была обширная, поэтому нам было проще, чем коллегам с другим образованием.
Я была заинтересована в работе международного рынка. По удачному стечению обстоятельств именно когда я пришла работать в Marina Gisich Gallery, Марина Гисич начала делать международный проект, и для нас участие в международных выставках стало интересным началом карьерного пути.
Мы с Олей получили классическое искусствоведческое образование и теорию знали хорошо ещё с университета. Позже я какое-то время работала в другой сфере. Не скажу, что современное искусство было моим любимым предметом в институте, больше я любила древнехристианское и эпохи Возрождения.
— Ольга: Меня во время учебы в университете больше интересовало не конкретно современное искусство, а рынок — диплом я писала про мир искусства на крупнейших аукционах, анализировала динамику развития ценообразования. Конкретно к современному искусству пришла в галерее Marina Gisich, где я проработала девять лет. Там я открыла для себя интересный динамичный мир, после чего стало понятно, что хочется продолжать двигаться в этом направлении. Во время учебы мы посещали и галереи, хотя современное искусство и не изучалось в таком объеме, как сейчас. Но база знаний у нас все равно была обширная, поэтому нам было проще, чем коллегам с другим образованием.
Я была заинтересована в работе международного рынка. По удачному стечению обстоятельств именно когда я пришла работать в Marina Gisich Gallery, Марина Гисич начала делать международный проект, и для нас участие в международных выставках стало интересным началом карьерного пути.
— Возникали ли сложности с современным искусством в начале работы?
— Юлия: Нет, в итоге сложностей не возникло. Во-первых, у меня был замечательный партнёр, которая стала проводником в этот мир. Даже путь коллекционирования я начала с Владимира Кустова, который имеет сильные связи с классическим искусством. Современное и классическое искусства нельзя совсем разделять: они переплетены и взаимосвязаны.
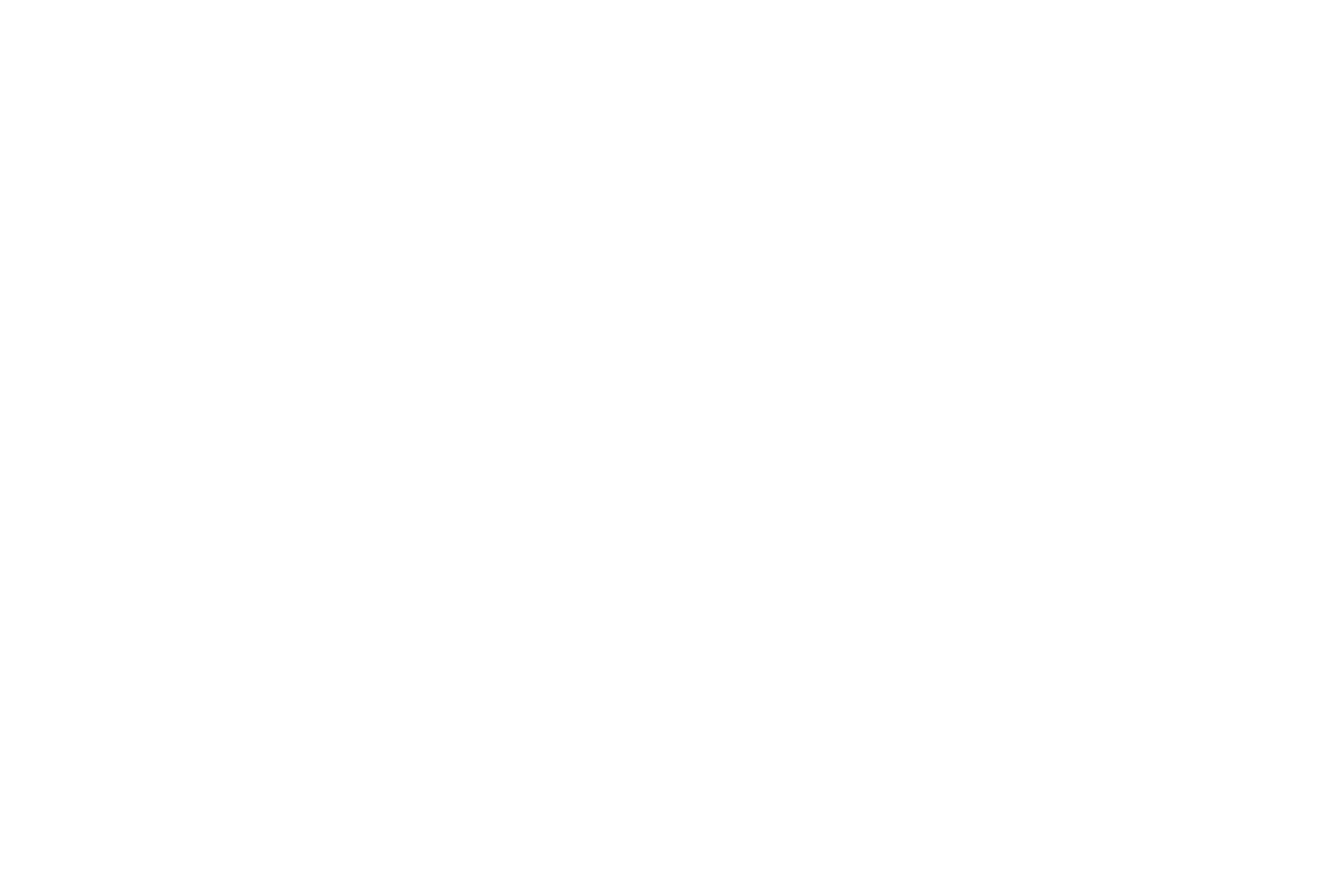
Фото: Вид экспозиции “Исключение”, MYTH Gallery, 2022. Куратор: Владимир Кустов. Фото: Иван Сорокин
— Как вы пришли к открытию собственной галереи?
— Юлия: Появилось новое поколение художников, которые не были представлены в галереях Петербурга. Идея открыть галерею принадлежала Оле, я поддержала ее в этом решении. Мы начали шаг за шагом идти к цели, от поиска помещения и кураторов до составления программы.
— Помните, что стало поворотным моментом для открытия?
— Ольга: Я никогда не пропагандировала идею открытия галереи, потому что это крайне тяжелый труд. В тот момент, когда я пришла к Марине Гисич, бизнес был абсолютно не прибыльным. Это многолетняя работа, к тому же тяжело прогнозируемая, потому что играть на эстетике и вкусах — дело не из легких. Поэтому никогда не было инфантильного желания что-то взять, открыть и покорить. Я четко понимала, насколько долгая история развития этого бизнеса.
Но в какой-то момент для меня стало очевидно, что есть художники другого круга, которые интересны и которых хочется поддерживать. Но, работая в галерее на кого-то, ты все равно так или иначе работаешь с эстетикой и вкусами этого человека.
Но в какой-то момент для меня стало очевидно, что есть художники другого круга, которые интересны и которых хочется поддерживать. Но, работая в галерее на кого-то, ты все равно так или иначе работаешь с эстетикой и вкусами этого человека.
— В начале было много трудностей?
— Ольга: Мне кажется, нам было легко. Возможно, в силу того, что я свои ошибки совершила на базе другой галереи, и к моменту открытия нашего проекта многие вещи уже понимала: вплоть до того, как правильно обустраивать пространство, какие там должны быть полы, стены, свет.
Сделать несколько действительно классных проектов не так тяжело. В разы сложнее продолжать, каждый раз преодолевая самого себя. В каждом следующем проекте ты бросаешь себе вызов: «На что еще ты способен?».
Между собой мы шутим, что наше дело — это поезд, который мчится, и из него уже никак не выйти. Иногда хочется на какой-то станции задержаться, но есть расписание прибытия. У нас есть график, связанный с выставками, ярмарками, общими культурными событиями внутри города и страны, которому нужно следовать. Поэтому если в начале работы у нас было желание все объять, везде поучаствовать, то сейчас наступила стадия отказа, где мы пытаемся максимально выверять каждый следующий проект.
Сделать несколько действительно классных проектов не так тяжело. В разы сложнее продолжать, каждый раз преодолевая самого себя. В каждом следующем проекте ты бросаешь себе вызов: «На что еще ты способен?».
Между собой мы шутим, что наше дело — это поезд, который мчится, и из него уже никак не выйти. Иногда хочется на какой-то станции задержаться, но есть расписание прибытия. У нас есть график, связанный с выставками, ярмарками, общими культурными событиями внутри города и страны, которому нужно следовать. Поэтому если в начале работы у нас было желание все объять, везде поучаствовать, то сейчас наступила стадия отказа, где мы пытаемся максимально выверять каждый следующий проект.
— От чего именно вам пришлось отказаться?
— Ольга: Мы стали сильно урезать партнерские проекты: в начале работы галереи это было стратегически верным решением с точки зрения популяризации и захвата разных аудиторий. Сейчас это уже не так актуально, мы работаем более точечно — можем сделать один проект, а не три, но он будет масштабнее и сложнее с точки зрения освещения, коммерческой привлекательности, художников, с которыми мы хотим работать. С ростом галереи концепция немного меняется, расширяется. Если раньше мы работали только с молодыми художниками, то сейчас работаем с уже состоявшимися авторами, продолжая при этом поддерживать выпускников академий.
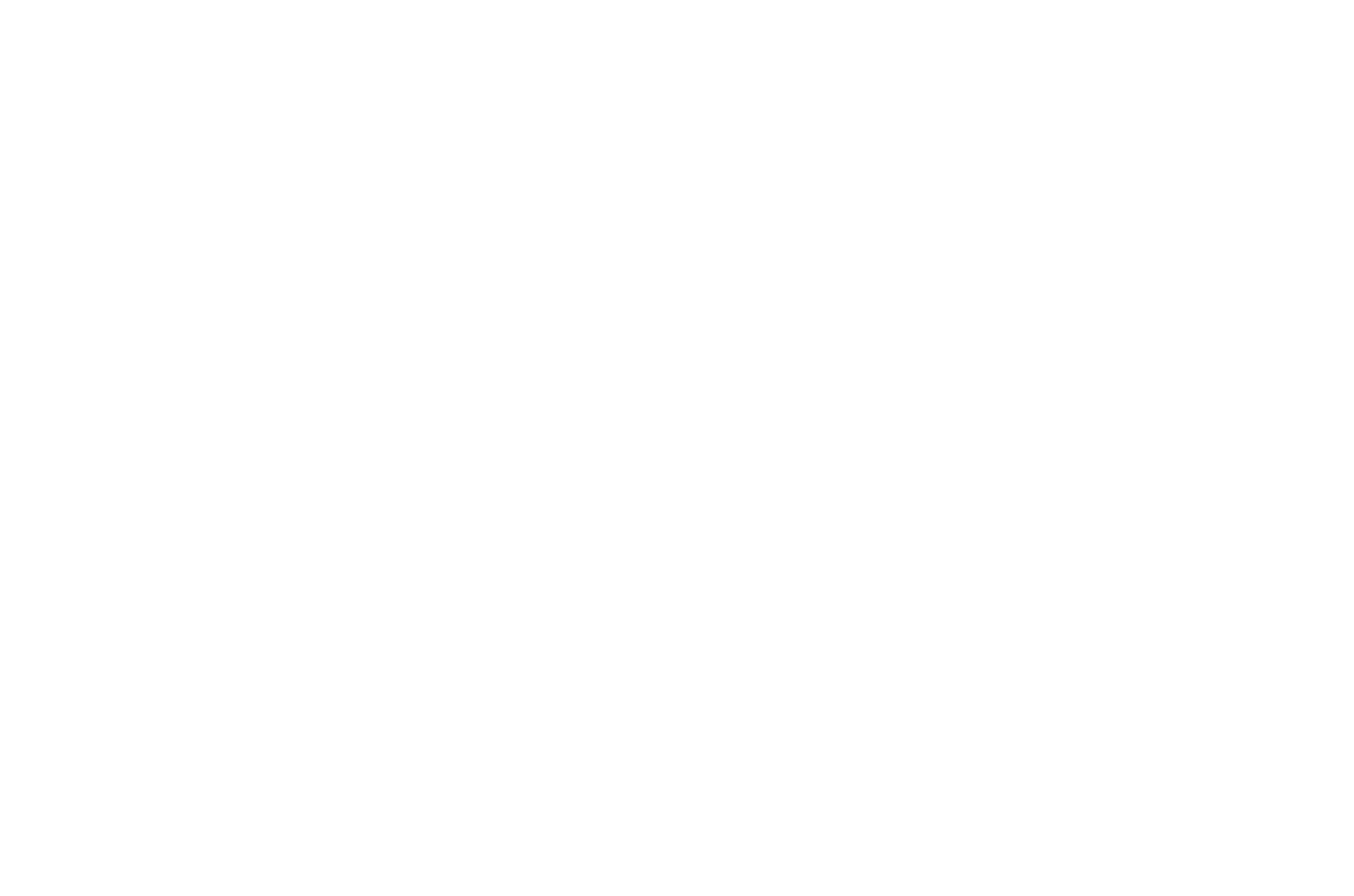
Фото: Вид экспозиции “Focus: Фотография”, MYTH Gallery, 2025. Фото: Иван Сорокин
— Возвращаясь к молодым художникам, сразу возникает вопрос — как вы определяете, что в художнике есть потенциал?
— Юлия: Понимание приходит в процессе работы. Мы никогда не можем предугадать, как будет идти развитие, и время вносит свои коррективы. Например, мы были вынуждены расстаться с Лизой Бобковой, хотя у нас шло планомерное развитие на рост. В процессе работы понимаешь, насколько человек последователен, можно ли достигнуть с ним взаимопонимания. Работа с людьми, тем более с художниками, всегда непредсказуема.
— Можно ли в таком случае утверждать, что главный фактор успеха — полноценная отдача от художника, погруженного в свое дело с головой?
— Ольга: Мне кажется, что настоящий художник не может не заниматься искусством в принципе, все его мысли так или иначе будут посвящены этому. Но, в силу того, что у нас не так много галерей, не все авторы могут позволить себе совсем не работать. К счастью, благодаря успешной стратегии галериста, некоторым все же удается уйти с головой в творческие процессы и не отвлекаться в такой степени на рутинные финансовые вопросы.
Сейчас главный маркер востребованности и успеха автора на рынке современного искусства — это интерес коллекционера. И работая в этой парадигме, мы всегда находимся в поиске баланса. Никто не способен предугадать путь развития художника, но возможно оценить его потенциал за счет самобытного подхода, качества реализации самих предметов искусства, глубокого погружения и серьезной концептуальной составляющей.
Сейчас главный маркер востребованности и успеха автора на рынке современного искусства — это интерес коллекционера. И работая в этой парадигме, мы всегда находимся в поиске баланса. Никто не способен предугадать путь развития художника, но возможно оценить его потенциал за счет самобытного подхода, качества реализации самих предметов искусства, глубокого погружения и серьезной концептуальной составляющей.
— Как вы привлекаете коллекционеров и раскрываете потенциал художников?
— Ольга: Эти процессы взаимосвязаны. Большинство коллекционеров находятся в постоянном поиске новых талантливых имен и проектов, и это уже само по себе создает здоровый спрос на свежее художественный высказывание. Наша же стратегия как галеристов направлена на то, чтобы отвечать на этот запрос и оказывать художникам максимально возможную поддержку в их экспериментах. Мы стремимся дать авторам творческую свободу и необходимый для развития импульс. Для нас принципиально важно, чтобы художник постоянно находился в творческом поиске и его художественный процесс не останавливался. И, разумеется, мы внимательно следим за тем, что происходит на сцене современного искусства, и стараемся быть открытыми к новым авторам и проектам, чьи работы попадают в поле нашей концептуальной программой и личных интересов.
Другими словами, все эти процессы образуют своеобразный живой организм, где коллекционеры следят за нашей деятельностью в ожидании нового материала, а художники получают возможность полностью раскрыть свой потенциал благодаря этой системе поддержки и открытости фокуса.
Более того, коллекционеры входят в экспертные советы — многие из них делают очень большую образовательную работу, уровень их погружения иногда превосходит кураторский. Но факт остается фактом. Сейчас большее влияние находится на стороне коллекционеров.
Другими словами, все эти процессы образуют своеобразный живой организм, где коллекционеры следят за нашей деятельностью в ожидании нового материала, а художники получают возможность полностью раскрыть свой потенциал благодаря этой системе поддержки и открытости фокуса.
Более того, коллекционеры входят в экспертные советы — многие из них делают очень большую образовательную работу, уровень их погружения иногда превосходит кураторский. Но факт остается фактом. Сейчас большее влияние находится на стороне коллекционеров.
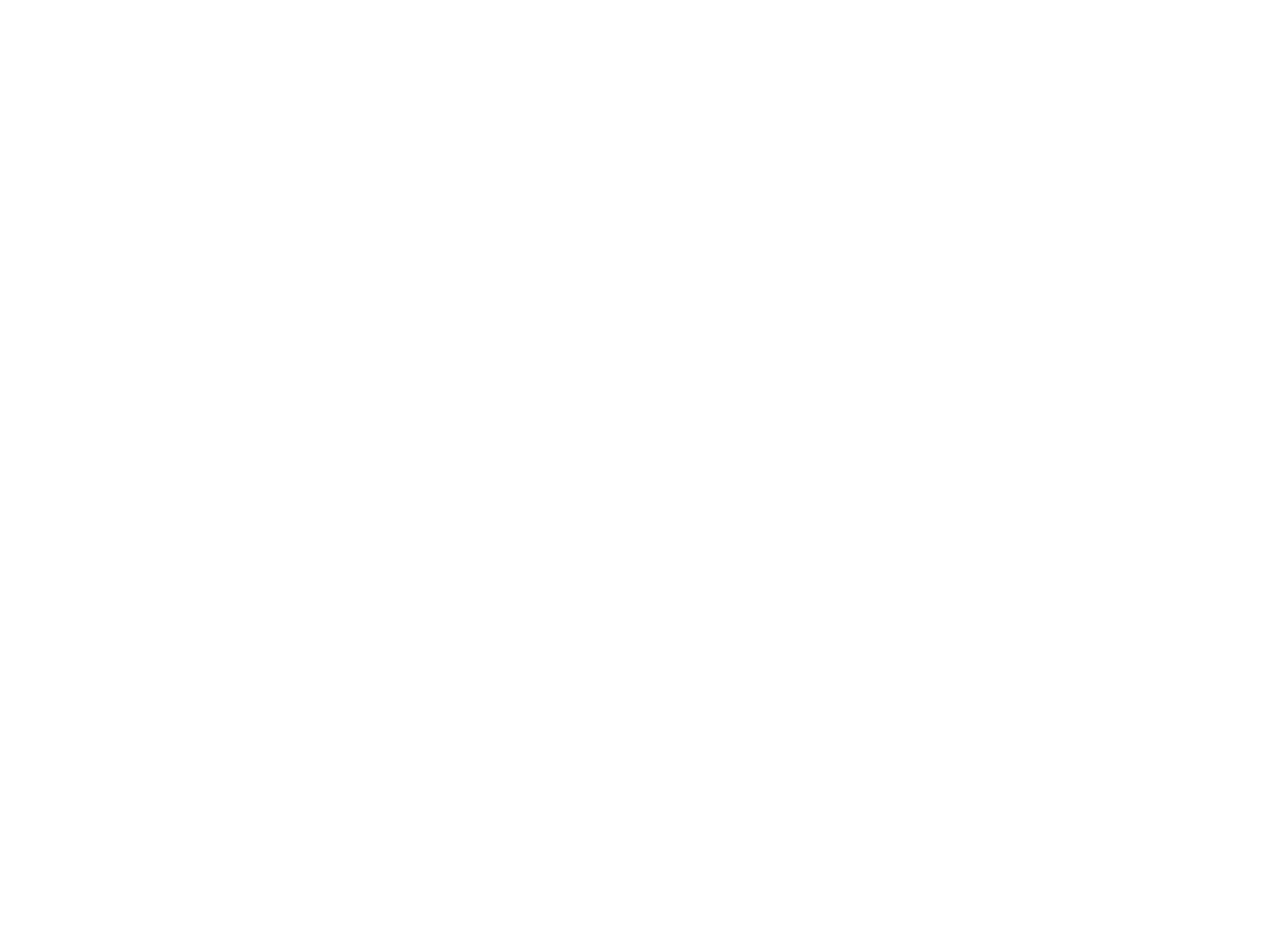
Фото: Вид экспозиции “Focus: Коллекционер”, MYTH Gallery, 2024. Фото: Иван Сорокин
— Коллекционеры чаще приобретают работу, чтобы в дальнейшем ее выгодно перепродать?
— Юлия: Коллекционеры обычно приобретают работы исходя из концепции своей коллекции. Зачастую это вдумчивый и планомерный подход.
— Ольга: Безусловно, многие коллекционеры — амбициозные люди, которые охотятся за шедеврами. Практика показывает, что, если коллекционер продает картину художника, значит он потерял в него веру. Коллекционеры, как и мы, не могут предугадать дальнейшую судьбу художника, но в их силах поддерживать то, что зарождается, формируется здесь и сейчас. Чаще всего они ревностно относятся к приобретенным работам, всегда отказывая их перепродавать. Приобретая картину, коллекционер как бы переживает ее историю, которой не готов впоследствии делиться.
Поэтому, мне кажется, перепродажа чаще всего связана с форс-мажорами, срочными переездами, но это не может быть стратегией. Или же это сложная стратегия, которая сработает лет через 70−80. У нас нет вторичного рынка актуального современного искусства.
— Ольга: Безусловно, многие коллекционеры — амбициозные люди, которые охотятся за шедеврами. Практика показывает, что, если коллекционер продает картину художника, значит он потерял в него веру. Коллекционеры, как и мы, не могут предугадать дальнейшую судьбу художника, но в их силах поддерживать то, что зарождается, формируется здесь и сейчас. Чаще всего они ревностно относятся к приобретенным работам, всегда отказывая их перепродавать. Приобретая картину, коллекционер как бы переживает ее историю, которой не готов впоследствии делиться.
Поэтому, мне кажется, перепродажа чаще всего связана с форс-мажорами, срочными переездами, но это не может быть стратегией. Или же это сложная стратегия, которая сработает лет через 70−80. У нас нет вторичного рынка актуального современного искусства.
— Чем международный рынок искусства отличается от российского?
— Ольга: На международном рынке принято считать инвестиционно привлекательными работы от миллиона или полумиллиона евро. Но у нас нет таких работ на рынке. Нет инфраструктуры, системы, с помощью которой это формируется.
— Возвращаясь к художникам, представленным в вашей галерее: какие темы в искусстве вам наиболее близки? Подбираете ли вы темы исходя из соответствия концепции галереи, или темы всегда разные?
— Юлия: Есть только условное разделение, но любое сотрудничество с художниками — наше совместное решение. У нас есть художники, которые работают больше с мифологией, ритуальностью, древними верованиями. И напротив, есть художники, которых интересуют ультрасовременные компьютерные технологии на основе ИИ, утопичные и антиутопичные сюжеты и поиск ответа на вопрос «во что превратится мир?». Есть более бытовые, комфортные жанры. Но, по сути, всех людей волнует одно и то же — это всегда смерть, жизнь и любовь.
— Куратор вместе с художником выбирает темы для выставки? Как вы выстраиваете взаимодействия с авторами?
— Ольга: Каждый раз по-разному. Иногда сам художник четко понимает, что он хочет сделать, и как это будет экспонироваться. Иногда необходима помощь куратора, чтобы осмыслить весь багаж, объем созданного, поэтому нет универсального пути.
— Возникают ли сложности в коммуникации с такими творческими личностями, как художники?
— Юлия: Это нельзя назвать сложностями. Это работа с людьми, с коллегами, умение находить общий язык и договариваться. Художники бывают чуть более эмоциональны, ревнивы, чувствительны. Они иначе воспринимают мир. Опять же у нас есть разделение между собой, кто лучше с кем общается, кто больше кого понимает и от кого скорее стоит ждать ответа.
— Ольга: Нужно развивать в себе дипломатические качества, потому что мы, безусловно, хотим самого лучшего художникам, с которыми работаем. Но всегда есть бюджет, рамки, которых приходится придерживаться. Необходимо грамотно обосновывать свое решение, чтобы избежать недопониманий.
— Ольга: Нужно развивать в себе дипломатические качества, потому что мы, безусловно, хотим самого лучшего художникам, с которыми работаем. Но всегда есть бюджет, рамки, которых приходится придерживаться. Необходимо грамотно обосновывать свое решение, чтобы избежать недопониманий.
— Художники сами регулируют стоимость работ, или этим занимается галерея? Есть ли какие-то четкие критерии оценки работ?
— Юлия: Зависит от статуса художника, его техники, истории выставочной деятельности, участия в музейных проектах, ярмарках. Художник растет как профессионал, и вместе с тем растет и стоимость его работ.
Ольга: Мы пользуемся международными стандартами против пузырей. Считаем, что молодые художники или авторы в середине карьеры должны стоить соответственно. Диффузия рынка — большая сила, и художник должен естественным образом показать себя и войти в профессиональное сообщество. Коллекционеры прекрасно знают стоимость работ. Если мы концентрируемся на десяти художниках, то их оборот не ограничивается сотней. Все изменения на рынке отслеживаются, поэтому мне кажется, что цена справедлива, если работу за эту цену покупают.
Ольга: Мы пользуемся международными стандартами против пузырей. Считаем, что молодые художники или авторы в середине карьеры должны стоить соответственно. Диффузия рынка — большая сила, и художник должен естественным образом показать себя и войти в профессиональное сообщество. Коллекционеры прекрасно знают стоимость работ. Если мы концентрируемся на десяти художниках, то их оборот не ограничивается сотней. Все изменения на рынке отслеживаются, поэтому мне кажется, что цена справедлива, если работу за эту цену покупают.
— Сейчас распространена тенденция обращения к ДПИ среди художников. Можете ли предположить, в связи с чем это происходит?
— Юлия: Мне кажется, что сейчас наблюдается мировая тенденция возвращения к собственной идентичности. Если раньше у нас был тренд на глобализацию, то сейчас художники направляются обратно к своим корням. Традиционные формы искусства — это глина, украшения, керамика, металл. Их возрождение является глобальной тенденцией: путешествуя по Венеции и Мадриду, мы наблюдали такое же возвращение к истокам.
— Однако параллельно есть и новая тенденция — обращение к технологиям. Как эти две противоположные идеи соединяются в искусстве?
— Ольга: Художникам всегда интересно расширять границы, искать новые ракурсы, через которые происходит процесс восприятия реальности. Например, в последнем зале на выставке «Политика рая» Кати Исаевой у нас представлена Луна в разных стадиях — от месяца до полнолуния и обратно. Но луна ведь не меняет форму и не трансформируется, хотя раньше эта часть научного познания была недоступна людям. Так же и сейчас новые технологии могут позволить художнику чуть более глубоко погрузится в тему, но одно другому не противоречит.
—Как вы относитесь к техническому искусству?
— Ольга: Отлично. У нас есть художник, который использует 3D принтер при создании своих скульптур. Технологии уже являются неотъемлемой частью нашей жизни. С точки зрения коммерции, возможно, такое искусство чуть менее привлекательно. Материальная составляющая имеет ценность: ощущение, что ты можешь потрогать и увидеть, что приобретаешь, дает больше уверенности, чем при покупке файла.
— Юлия: Более того, сам факт физической причастности автора к работе также играет большую роль.
— Ольга: В наше время, может быть, это уже не так важно, так как интеллектуальная составляющая искусства сейчас выходит на передний план. Но с точки зрения рынка разница пока есть.
— Юлия: Более того, сам факт физической причастности автора к работе также играет большую роль.
— Ольга: В наше время, может быть, это уже не так важно, так как интеллектуальная составляющая искусства сейчас выходит на передний план. Но с точки зрения рынка разница пока есть.
—У нас осталось несколько блиц-вопросов. Можете назвать любимую книгу, любимого художника, любимый музей и любимое место в Петербурге?
— Ольга: Начнем с Петербурга, — это определенно Петропавловская крепость. Есть в этом месте что-то магическое. Маленький остров, который развил вокруг сильное энергетическое пространство. Мне нравится, что эта крепость, словно ядро, хранит в себе много энергии, — я ее ощущаю и одновременно чувствую себя защищенной и вдохновлённой.
Что касается музея, то пусть будет CaixaForum в Мадриде. С точки зрения концептуализации, выставочного дизайна — у них лучше всех получается. Архитектура здания и предметы искусства образуют идеально органическое сочетание.
Любимый художник — Рембрандт, я писала курсовую о его портретах стариков. Несмотря на простоту выбранного персонажа, ему удалось выразить космических масштабов понимание жизни и процессов, которые определяют наш путь.
— Юлия: У меня много любимых мест в Петербурге. Например, Ботанический сад — место, в котором я с детства чувствую себя спокойно, куда мне хочется возвращаться. В более осознанном возрасте я полюбила театры: преклоняюсь перед Мариинкой, БДТ и другими. Я работаю с художниками, но в другой сфере, и меня восхищает, как люди могут создавать абсолютно другие реальности. Для меня театр — это всегда про ощущение чего-то такого «за гранью».
Что касается музея, то пока у меня нет определенного фаворита. Мой любимый художник еще со студенчества — это Михаил Врубель. Здесь играет роль и его связь с театром, и сложная судьба, и новаторство, и фантастический колорит, и символизм.
Вопрос с книгой всегда очень сложный, но есть любимый автор — Аркадий Ипполитов. Для меня в наслаждение читать его исследовательские труды. Впечатляет его язык, анализ материала.
— Ольга: Я люблю литературу, которая заставляет мозг работать. Нравится ощущение, когда понимаешь, что не просто читаешь книгу ради удовольствия, а проделываешь работу над собой.
Что касается музея, то пусть будет CaixaForum в Мадриде. С точки зрения концептуализации, выставочного дизайна — у них лучше всех получается. Архитектура здания и предметы искусства образуют идеально органическое сочетание.
Любимый художник — Рембрандт, я писала курсовую о его портретах стариков. Несмотря на простоту выбранного персонажа, ему удалось выразить космических масштабов понимание жизни и процессов, которые определяют наш путь.
— Юлия: У меня много любимых мест в Петербурге. Например, Ботанический сад — место, в котором я с детства чувствую себя спокойно, куда мне хочется возвращаться. В более осознанном возрасте я полюбила театры: преклоняюсь перед Мариинкой, БДТ и другими. Я работаю с художниками, но в другой сфере, и меня восхищает, как люди могут создавать абсолютно другие реальности. Для меня театр — это всегда про ощущение чего-то такого «за гранью».
Что касается музея, то пока у меня нет определенного фаворита. Мой любимый художник еще со студенчества — это Михаил Врубель. Здесь играет роль и его связь с театром, и сложная судьба, и новаторство, и фантастический колорит, и символизм.
Вопрос с книгой всегда очень сложный, но есть любимый автор — Аркадий Ипполитов. Для меня в наслаждение читать его исследовательские труды. Впечатляет его язык, анализ материала.
— Ольга: Я люблю литературу, которая заставляет мозг работать. Нравится ощущение, когда понимаешь, что не просто читаешь книгу ради удовольствия, а проделываешь работу над собой.